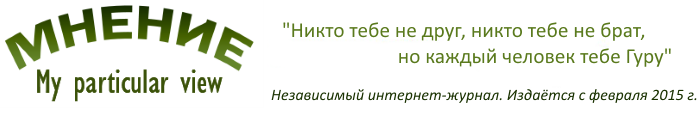Юрий Ряшенцев: «За все благодарен маме»
Юрию Евгеньевичу Ряшенцеву, талантливому поэту, прозаику, киносценаристу, автору песен для театра и кино — 88. В это трудно поверить. Он лихой водитель, страстный болельщик, неисправимый жизнелюб — и пишет. А еще он предан месту, где живет всю жизнь: для него Хамовники, Новодевичий, сад Мандельштама — лучшие точки в Москве, а то и на целом свете.
— Что первым вспоминается, Юрий Евгеньевич, Вам из детства?
— Детство мое рассыпается на несколько периодов. Самый первый — Питер с 1931 по 1934 год, но там отчетливых картинок нет, вот в три года я уже помню себя и окружающее хорошо.
Мы тогда переехали в Москву. Помню: мой приятель сидит в луже, его мама зовет есть, а он не идет, она обещает конфетку, если тот вылезет из лужи, но он не верит и не хочет вылезать.
Мне казалось, что мы приехали из столицы (Ленинграда) в провинцию (Москву) потому, что таких луж я никогда в жизни не видел. Какое-то время мы жили, правда, в «Метрополе», а потом переехали в район, где я до сих пор и живу, неподалеку от станции метро Фрунзенская. Наш дом принадлежал фабрике «Красная роза», вокруг стояли рабочие кооперативы завода «Каучук», квартиры — сплошь коммунальные. Сейчас-то у нас тут роскошно, а тогда были одни помойки и сараи с деревенским скарбом, ведь тут жили горожане только в первом-втором поколении, приехавшие из деревни работать на фабриках. В выходной они ездили к себе в деревню и привозили всякую домашнюю живность. Из городских животных во дворах водились страшные огромные крысы, которые носились даже днем и мешали нам играть.
Человеческое общество тогда тоже было совершенно другое. Была культура дворов, то есть культуры не было, а дворы были. И вот, что любопытно, в дворовой компании возраст не соблюдался. Ребята от шести до пятнадцати лет ходили вместе, вместе слушали рассказы старших. Длилось это братство долго, примерно до середины 50-х, а дальше как-то рассыпалось.
— Как же Вас мама отпускала гулять одного?
— Мама, помимо того, что была очень любящей мамой, была большой умницей: понимала, что меня нельзя отделять от дворовой жизни. Когда я вышел в первый раз гулять во двор в бархатном костюмчике — штанишки до колен, чуть ли не с бантом, представьте реакцию местной шпаны. Я очень быстро это все снял. Мама умела быть естественной в любой среде, при том, что окончила гимназию в Оренбурге, и классной руководительницей у нее была княгиня Волконская. В любой среде моя мама оказывалась своей, люди всегда приходили к ней за советом и помощью.
Мы поменяли роскошную квартиру на интеллигентном Невском проспекте на московский рабочий двор. Кстати, наша квартира в этом рабочем доме единственная оказалась не коммунальной, потому что архитектор строил ее для себя.
— А почему вообще надо было переезжать из Ленинграда в Москву?
— Я до сих пор не знаю, полагаю, это было связано с отцом. Он занимал какой-то важный пост в системе органов, однако работать там не смог по складу характера. В 1934 году, когда мне было три-четыре года, отец уехал к Микояну работать на стройке. Среди прочих, он строил Петропавловск-Камчатский, где его и арестовали в 1937-м, там он и погиб. А мы с мамой в 1934 году переехали в Москву.
— Вы выросли в рабочем квартале среди шпаны. Дедовщина была?
— Я на себе этого не ощущал. Шпана старшего возраста и маленькие пацаны, мы вместе дружили и играли, естественно, тянулись к старшим. Дворовое общество было интересное и довольно политизированное. Помню, увлекались игрой, в которой наши — «работники НКВД» ловили врагов — «шпионов» по чердакам.
— То есть… работники НКВД были положительными героями?
— Конечно! Весь наш двор делился, по очереди, на тех и других. Я тоже хотел играть, и чтобы отвязаться, меня сажали во дворе, давали карандаш и бумагу и говорили: «Вот, ты будешь Ежов, пиши, кого расстрелять». Мне приводили пойманных шпионов, и я накладывал свою резолюцию и сидел, полный собственной значимости и ответственности, не путаясь у старших под ногами.
— Про отца Вы тогда ничего не знали?
— Нет, только слышал, что арестовали, но тогда у половины пацанов отцы были арестованы, и все думали, что других правильно арестовали, а своего — ошибочно, и скоро во всем разберутся. Началась война, мы уехали в эвакуацию в августе 1941 года в Оренбург, на родину мамы. Это был яркий период моей детской жизни. Там о многих вещах я очень рано узнал. У меня есть такая поэма «Царь горы», где описано, как я оказался в окружении большого количества животных — собак, свиней, овец, коз. В Москве у меня был только маленький той-терьерчик, а тут я даже участвовал в купании коней, причем без седла — поразительное чувство, когда лошадь начинает плыть под тобой.
— Как Вы устроились в эвакуации?
— Сначала поселились в квартире у родственников в Оренбурге, а вскоре переехали в казачью станицу Нежинка. Три года прожили в казачьем селе, потом переселились в мужицкое село (так его называли) Павловка.
— Чем казачья станица отличалась от мужицкого села?
— Все жители станицы гордо носили звание казаков, считая себя особым народом. Они вели сельскую жизнь, но были организованы в казачьи подразделения. В избах на стенах висели портреты родичей-казаков с саблями, под каждым подпись: призыв такого-то года. Они проходили собственную военную подготовку. При советской власти казаков притесняли, поминая им разгон демонстраций революционно настроенных студентов, но после войны Сталин пересмотрел свое отношение к казакам, им разрешили носить свою собственную форму, советские композиторы писали про них песни. Во всем этом появилось что-то опереточное.
В Нежинке я был один эвакуированный на все село, а в Павловку попал как в Москву. Там было много эвакуированных из Ленинграда, Киева. Я попал в знакомое общество, правда, в первый же день меня отлупили местные ребята — второгодники, считая меня дохленьким новичком. Отняли шапку, а я в Москве считался сильным в классе, и сразу им врезал, они мне в ответ здорово наклепали. Потом мы подружились, и наступил счастливейший период.
В пятом классе у меня случилась первая любовь. Я потом нашел эту девочку в Киеве, когда институт окончил, мы вспоминали детство и смеялись, как ходили рядом и боялись руки коснуться.
Три года мы с мамой прожили в эвакуации, потом вернулись в Москву. Помню проход пленных немцев по Москве, конец войны, счастье Победы, возвращение наших солдат. Было слышно, как они шли взводами, и медали звякали у них на груди.
— И началась мирная жизнь…
— В нашей школе, чисто мужской, были казарменные порядки, но интеллигенты и блатная шпана сосуществовали мирно. Потом во дворах грянул футбол. Я пошел в Динамо, куда меня не взяли, обнаружив какие-то нелады с сердцем. Счастье мое великое, что мама не так легко впадала в панику. Я продолжал играть во дворе, особенно зимой. Не состоявшись полузащитником по причине сердца, я неожиданно сделал карьеру дворового вратаря — стал лучшим. С шестого по десятый класс в моей жизни царил футбол, а дальше — волейбол. Мы стали лучшей детской командой, и как-то на одном соревновании столкнулись с взрослой командой Педагогического института имени Ленина. Мы им проиграли, но в такой жестокой борьбе, что после соревнований студенты пришли к нам в раздевалку и предложили поступать к ним в институт. Я очень позитивно это воспринял, потому что институт располагался рядом.
— Вы поступили в Педагогический?
— Да, я пошел в этот институт, где мне впервые страна показала, что я — человек второго сорта. Во время вступительных экзаменов я набрал 20 баллов из 20 возможных. Оставалась История. Я пришел королем, сел, совершенно уверенный, готовый по всем вопросам в билетах. Но в аудиторию вошел довольно неприятный человек, по фамилии Бителев, заведующий педагогической частью института, наклонился к экзаменатору, что-то ему нашептал, тот удивленно покачал головой. Бителев взял второй стул и сел рядом, пригласив сдавать тех, кто уже готов. Я сдуру пошел первым, назвал свой билет, но он велел его отложить и рассказать о Ленинской статье «Тактика социал-демократии». Я возразил, что ее только в институте проходят (я занимался в школьном историческом кружке и был хорошо подготовлен), но видя, как он берет в руки экзаменационный лист, начал отвечать. Тот выслушал, потом назвал другую Ленинскую работу, еще сложнее — философскую, в итоге поставили мне «посредственно». Я не очень беспокоился: 23 балла из 25, у других было меньше, но я не учел, что я — сын репрессированного, и еще отчима к тому времени тоже забрали. В списках поступивших меня не оказалось. Детство кончилось.
— Но потом Вас же взяли?
— Да, за меня сильно боролась кафедра физкультуры. А еще, была целая эпопея: когда мне влепили тройку, мама пошла к директору института, добродушному старичку, который, узнав, что я набрал 23 проходных балла, посоветовал идти к ним на факультет иностранных языков. Я пошел, но все же хотел учиться на литературном факультете. В итоге, все получилось.
— Кто был в детстве главным авторитетом?
— Отчим, которого я очень любил. Ряшенцев был невероятно крепким физически, вокруг него всегда собирались мужчины. Я обожал отчима, но боялся смертельно, хотя он меня ни разу в жизни не обидел. Я его звал Мишкой, он меня — сусликом. Почему-то мне казалось, что он должен меня убить. Два года подряд мы втроем ездили отдыхать в Крым, каждое утро он брал меня с собой на мужской пляж (мама ходила на общий), и я каждый раз шел за ним, страшась, что он собирается меня утопить. Такой был психоз в стране: обаятельный, значит, шпион (мальчишками мы росли на прозе Аркадия Гайдара).
— Когда мама вышла замуж за Ряшенцева?
— Перед войной. За мамой многие ухаживали, когда она осталась без мужа, но она выбрала простого слесаря Евгения Александровича Ряшенцева. Он прошел всю войну. Когда его забирали, как обычно, ночью, я притворился спящим и слышал, как отчим просил маму передать мне, что ни в чем не виноват. Ему дали пять лет, это тогда вообще было ни о чем, вероятно, за анекдот. Он отсидел, но к нам не вернулся, завел там другую семью. Потом я с ним виделся несколько раз, мама просила помочь ему деньгами, так что его семья молилась на меня.
— Какие книги повлияли на Вас?
— Я научился читать в четыре года, что сыграло со мной злую шутку.
У меня на эту тему есть стихотворение «Книжный шкаф»: «…Что попало, прыщ, хватал я с полок. Жаль, что избежал расправ и порок — мама у меня была не та. Вот ведь сказки братьев Гримм. Однако я тащил из шкафа труд Бальзака «Куртизанок блеск и нищета».?— Ты хоть знал,?— закрыв все двери в замке,?— кто такие эти куртизанки? — мама улыбалась вся в слезах. Мне пять лет! Я знал, конечно, это — те, что с вражьей силой беззаветно бьются и скрываются в лесах. Спутал с партизанками. Но честно — там не про войну. Неинтересно…».
К сожалению, многие прочитанные в раннем возрасте книги так и осталось неперечитанным. Из любимых были «Дон Кихот», «Три мушкетера», очень увлекался Гончаровым, Диккенсом, потом пришел к поэзии.


— Когда было написано первое собственное стихотворение?
— В четыре года: «Над сопкой заозерной взвился наш красный флаг, под сопкой заозерной лежал разбитый враг…», это — про эпопею с японцами. Потом я долго ничего не писал, кроме шуточных писем соседу — писателю. Уже в институте я заразился общей увлеченностью поэзией. Тогда все писали стихи, и я начал, хотя не относился к этому всерьез. Всерьез уже, когда пришел работать в журнал «Юность», мне было тридцать лет.
— Кем Вы мечтали стать в детстве?
— С одной стороны, я хотел быть подводником (отчим когда-то служил на подводной лодке), с другой — кавалеристом. После возвращения из эвакуации я заболел футболом. Для меня тогда большим горем было, что это не осуществилось по здоровью.
— За что и кому Вы в жизни благодарны?
— В первую очередь, маме. Мама меня поддерживала во всем. За все, что мне в жизни удалось, я благодарен ей.