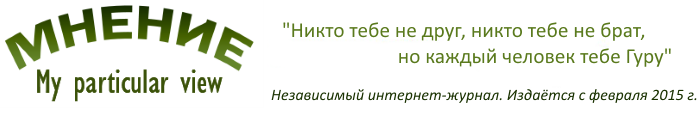На курсе все знали, что я мечтал попасть на Таганку. Когда шли показы по театрам выпускников театральных училищ, наш щукинский курс первым показывался именно в Театре на Таганке. Из двух с половиной часов показов моими сокурсниками сценок, стихов, пантомим и пр., я провел на сцене почти полтора часа, участвуя во всем, чём можно. Я пел, играл на гитаре, показывал свои наблюдения в зоопарке, читал Жванецкого и т.д. Меня взяли. Любимов был в меня влюблен и полтора года на всех собраниях, когда отчитывал артистов, приводил меня в пример, вот, мол, каким должен быть артист – энергичным, пластичным, ярким, разным. Прошло полтора года, у меня – ни одной роли. Когда Юрий Петрович стал репетировать «Мастера и Маргариту», назначил на роль Азазелло Зинаиду Славину и меня. Я репетировал четыре месяца, придумывал всякие штуки, например, огонь изо рта (с помощью керосина), за две недели до выпуска в спектакль ввелась Славина и играла в течение полугода все премьерные спектакли. Когда все театральные сливки общества спектакль пересмотрели, тут на сцену допустили и меня.
Любимов, безусловно, Гений. Как он придумывал свои режиссерские ходы, одному Богу известно. В последние годы от Любимова как-то оттерли Боровского, а ведь от той сценографии, которую предлагал Давид, у Юрия Петровича рождались новые ходы. У художника – материалы, у режиссера – артисты. Мы и понимали, что для Юрия Петровича мы – строительный материал или, если хотите, куклы. Счастливы были те, кому удавалось оживить, присвоить свою куклу. Любимов был нервный, строгий, жестокий, но когда все получалось, он позволял выходить своему блистательному чувству юмора.

«10 дней, которые потрясли мир». Когда я пришел в театр, роль Керенского играл Владимир Высоцкий, а до него – Николай Губенко. Василий Семенович очень хорошо ко мне относился, считал, что я могу все. Однажды ему надо было уехать к Марине в Париж, за полтора дня до отъезда он договорился с Любимовым и Дупаком (Николай Дупак – директор «Таганки» во времена Любимова) и отрепетировал со мной ровно двенядцать минут, пока мы с ним шли до гримерки. Я был абсолютно счастлив. Надел его костюм, втиснулся в его туфли 40-го размера (у меня 41 размер, но мне было уютно от одной мысли, что это – обувь Высоцкого), и вот наступил мой трагический час. Я был влюблен в Высоцкого и хотел сыграть также, как он. Встал на чьи-то плечи и хриплым голосом заорал изо всех сил. Мне хватило сил только на восемь слов, далее я слабым сорванным голоском еде довел монолог до конца. Многие артисты уходили ржать за кулисы.
Владимиру Семеновичу очень нравились мои наблюдения за животными. Однажды он позвал принять участие в его концерте. Сижу я за кулисами, слушаю, что он поет и говорит и когда он меня пригласит на сцену. Слышу, как он безмерно меня нахваливает, зовет, выхожу, показываю самый успешный номер – грифа. В зале гробовая тишина. Люди пришли слушать Высоцкого, а мои звери – птицы, все это им было ни к чему…
Юрий Петрович был гениальным режиссером, артистом он тоже был хорошим, но это был не его конёк. А вот когда он объяснял, что хочет от артиста в спектакле, а тот не понимал, тогда Любимов сам выходил на сцену и показывал так, что ошибиться после этого уже было невозможно – копировать-то все артисты умеют. Когда он ругался и неистовствовал, кричал, что всех разгонит, и тогда все без него пропадут, а он – нет, потому что умеет хорошо водить машину, и подастся в таксисты. Понятно, что он тоже не смог бы жить без театра, но его угроз все страшно боялись.

Два главных урока я усвоил от Любимова: выносливость и терпение. Юрий Петрович любил говаривать: «Леня Ярмольник – один из моих уникальных воспитанников, он сам себя сделал!».
Я – счастливый артист никогда никому не завидовал, не отчаивался, считал, будет день и будет пища…